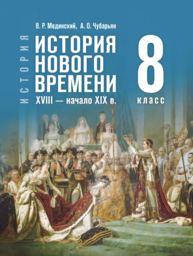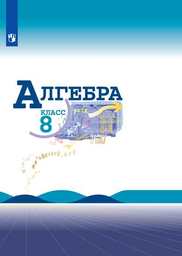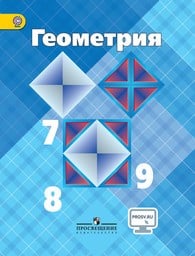Решебник по истории нового времени 8 класс Мединский | Страница 159
Страница 159
Темы проектов
1. Символы Французской революции. С помощью дополнительной литературы и ресурсов Интернета соберите информацию о том, какие символы революционной эпохи появились во Франции. Как отразились идеи революции в одежде, в календаре? Проанализируйте полученные данные. Сделайте заключение о том, какое значение имеют различные символы для пропаганды революционных идей.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСимволы Французской революции стали самостоятельным языком политики: они упрощали сложные идеи свободы и народного суверенитета до понятных знаков, которые можно было увидеть на флагах, одежде, фасадах домов и в праздничных церемониях. Уже в 1789–1792 годах формируется корпус устойчивых образов: трехцветная кокарда и флаг, фригийский колпак («красный колпак свободы»), образ Женщины-Республики — Марианны, а также «Дерево Свободы». Эти символы не были случайными: они восходили к античным и городским традициям (цвета Парижа — синий и красный, белый цвет прежнего режима), а потому легко считывались и населением, и политиками. Трехцветная кокарда складывается, когда к красно-синим цветам Парижа добавляют белый «королевский» — из кокарды вырастает и будущий флаг Франции; фригийский колпак отсылает к шапке, получаемой освобождённым рабом в Риме; Марианна — аллегория Республики и Свободы, часто в фригийском колпаке и с триколором; «Дерево Свободы» становится живым оберегом новой власти и обязательным элементом революционных праздников. Эти связи и эволюцию символов подробно фиксируют современные справочники и исследования истории революционной эмблематики.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИдеи революции быстро отразились в повседневной культуре и особенно в одежде. Появляется показательно «антиаристократический» стиль: длинные штаны вместо бриджей до колена (знак «sans-culottes», буквально «без кюлот»), короткая куртка-карманьола, яркая трехцветная кокарда на головных уборах, фригийские колпаки, а также простые ткани и фасоны, противопоставленные вычурности двора. Этот визуальный код сразу говорил о политической позиции носителя: «гражданин», а не «подданный», сторонник народного суверенитета, а не придворной иерархии. Музейные и академические обзоры моды 1790-х годов отмечают, что именно этот «демократический» мужской комплект — куртка и брюки — со временем стал основой повседневного мужского костюма XIX века.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСильнейшим инструментом символической перестройки мира стал новый Республиканский календарь. Революционное правительство заменило грегорианское летосчисление системой из двенадцати 30-дневных месяцев с «декадами» — десятидневными неделями, плюс пять–шесть дополнительных дней в конце года. Год начинался осенним равноденствием, а названия месяцев — Вандемьер, Брюмьер, Фример, Нивоз, Плювиоз, Вентоз, Жерминаль, Флореаль, Прериаль, Мессидор, Термидор, Фрюктидор — подчеркивали связь с природными циклами, трудом и рациональным порядком. Календарь просуществовал в официальном обращении до 1805 года, но как знак «нового времени» он сыграл роль мощного пропагандистского жеста: время буквально «перенастроили» под республиканские ценности.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРядом с календарём шла и другая «рационализация повседневности» — метрическая система мер. Закон 7 апреля 1795 года вводил десятичные единицы и единую шкалу — ещё один символ разрыва с произволом и локальными обычаями старого режима в пользу универсального, «разумного» порядка. И хотя внедрение шло непросто, сама идея «метра и килограмма» стала знаком революционного просвещения и равенства граждан перед едиными мерами.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ визуальном ряду революции центральное место заняла Марианна — аллегория Республики, воплощающая свободу, разум и гражданское братство. Её изображали на печатях, монетах, бюстах муниципалитетов, в живописи и скульптуре; обычно она в фригийском колпаке, иногда опирается на фасции как знак законной власти народа. Этот женский образ позволял эмоционально соединить абстрактные принципы с узнаваемой фигурой и присутствовал в публичном пространстве как «лицо» Республики.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЛозунг «Свобода, Равенство, Братство» также прошёл путь от революционных надписей на фасадах к официальному девизу Франции. В 1793 году на домах нередко писали формулы, где «свобода и равенство» соседствовали с более жёсткими добавлениями эпохи Террора; в XIX веке триада закрепилась как главный словесный символ республиканских ценностей и сегодня является официальным девизом страны. Слова стали таким же «знаком принадлежности», как кокарда и флаг.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАнализ этих данных показывает, что революционные символы работали на нескольких уровнях. Во-первых, они замещали старые знаки власти и передавали новую легитимность: вместо монарших эмблем — триколор, вместо религиозных праздников по церковному календарю — гражданские торжества в республиканские даты. Во-вторых, символы были «массовыми технологиями» мобилизации: простые, дешёвые и тиражируемые (кокарды, колпаки, деревья, лозунги), они превращали жителей в «граждан», а улицы — в политическую сцену. В-третьих, знак вшивался в повседневность: одежда, обращение «гражданин/гражданка», единые меры и новый счёт времени создавали ощущение, что революция — не только в собраниях и декретах, но и «на теле», «в доме» и «в календаре».
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВывод: символы стали незаменимым инструментом пропаганды революционных идей, потому что переводили абстрактные принципы свободы, равенства и народного суверенитета в видимые и повторяемые формы — от цветов и одежды до месяцев и мер. Они упрощали коммуникацию власти с обществом, вовлекали людей в общее действие и формировали новую гражданскую идентичность. Даже после отмены отдельных нововведений (десятидневная неделя, республиканские месяцы) символический капитал революции продолжил жить: триколор, Марианна, девиз и метрическая система закрепили республиканские ценности в памяти и в повседневной практике французов.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Европейские страны в XVIII столетии. Опираясь на материалы главы и дополнительные источники информации, соберите сведения о развитии нескольких стран Европы в XVIII в. (по выбору). Сгруппируйте их по направлениям: политическое развитие, экономическое; выделите основные тенденции, векторы развития. Предположите, имели ли изменения в политической жизни общую логику или каждая страна проводила реформы, следуя собственным нуждам и интересам.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЕвропейское XVIII столетие — время ускоренной трансформации «фискально-военных» монархий и становления коммерческой экономики. На протяжении века почти все крупные державы наращивали бюрократические аппараты, профессиональные армии и флот, реформировали налоги и управление, а в хозяйстве усиливались рыночные связи, росла производительность сельского хозяйства и развивались мануфактуры. Но общий вектор «централизация + мобилизация ресурсов» преломлялся по-разному в зависимости от институтов и социальной структуры каждой страны.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ Великобритании после Славной революции закрепилась конституционная монархия с парламентским контролем над финансами, что дало устойчивость заимствованиям и возможность дешёво финансировать войны. Сформировались ключевые институты финансовой революции — государственный долг, Банк Англии, рынок ценных бумаг; Лондон стал общеевропейским финансовым узлом. Экономика опиралась на колониальную торговлю и каботаж под защитой актов о навигации, а в сельском хозяйстве шёл длительный процесс огораживаний и агрономических нововведений, повышавших урожайность. На этой основе в 1760–1790-е годы проявились ранние признаки промышленного переворота: механизация прядения и ткачества, рост добычи угля и выплавки железа, строительство каналов. Политически страна развивалась через конкуренцию парламентских группировок и усиление кабинета министров, экономически — через интеграцию рынков и технологические скачки.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВо Франции сохранялось королевское абсолютизм с сильными провинциальными «привилегиями» и фискальными исключениями. Попытки упорядочить финансы — от санаций долга до проектов Тюрго по свободе хлебной торговли и отмене подневольных дорожных работ — встречали сопротивление корпораций и парламентов. Одновременно шёл культурный взлёт Просвещения, росли города и мануфактуры, но налоговая система оставалась регрессивной, а долговая нагрузка — тяжёлой после серии войн, включая Семилетнюю. К концу века сочетание фискального кризиса, структурных перекосов и политической поляризации привело к революции, в которой прежняя модель централизованной монархии была заменена республиканской.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПруссия при Гогенцоллернах превратилась в образцовый «камералистский» аппарат мобилизации: при Фридрихе Вильгельме I и Фридрихе II выстроены постоянная армия, корпус чиновников, система кантонного набора, упорядочены налоги, прокладывались каналы и строились дороги. Фридрих II совмещал военную экспансию (Силезские войны) с практиками «просвещённого абсолютизма» — веротерпимостью, кодификацией права, покровительством ремёслам. Экономическая база оставалась во многом аграрной, особенно в восточных землях с доминированием юнкеров, но государство активно поддерживало мануфактуры и колонизацию неоплодотворённых земель.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАвстрийская монархия Габсбургов при Марии-Терезии и Иосифе II провела глубокую административную централизацию: перепись и кадастр для справедливее распределённых налогов, реформы образования и судопроизводства, ограничение барщины и попытки смягчить зависимость крестьян. В многонациональном конгломерате земель это означало переход от лоскутного управления к более единообразной бюрократии. Хозяйственно выделялись богемские и нижнеавстрийские протопромышленные районы (текстиль, металл), а также земельные реформы, постепенно повышавшие товарность сельского хозяйства.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРоссия начала век «революцией сверху» Петра I: создание регулярной армии и флота, Табель о рангах, новая столица, перестройка управления и налогообложения, ставка на государственные мануфактуры и металлургию Урала. После середины столетия при Екатерине II курс «просвещённого абсолютизма» сочетался с расширением дворянских вольностей и фактическим усилением крепостной зависимости; внешнеполитические успехи (выход к Чёрному морю, разделы Речи Посполитой) опирались на возрастающую мобилизацию ресурсов. Экономика оставалась преимущественно аграрной и крепостнической, хотя внешняя торговля через Балтику и Чёрное море расширялась, а государство поощряло мануфактуры.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ Испании с приходом Бурбонов прошли реформы централизации по французскому образцу: унификация управления, создание институтов-интендантов, ограничение привилегий корпораций, секуляризационные шаги (включая изгнание иезуитов), оживление торговли с Америкой и обновление колониального управления. Экономически предпринимались попытки снять внутренние барьеры, развивать инфраструктуру и поощрять мануфактуры, но инерция региональных рынков и конкуренция Великобритании и Франции ограничивали эффект.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналНидерланды уступили лидерство в торговле и судоходстве, но укрепили позицию как «казначей Европы»: высокий уровень сбережений и развитые финансовые практики сделали Амстердам центром международного кредита. Политическая раздробленность провинций и конкуренция со стороны британского флота привели к относительному экономическому сдвигу от промышленности и перевозок к банковскому делу и инвестициям.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналШвеция пережила «Эпоху свободы» с усилением риксдага, затем дворцовый переворот Густава III в пользу просвещённого абсолютизма. На фоне ограниченных ресурсов и демографического масштаба страна искала баланс между конституционными экспериментами и централизацией, а в хозяйстве развивала экспорт железа и леса, стимулируя мануфактуры.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЕсли соединить наблюдения, вырисовываются общие тенденции. Политически — движение к профессиональной бюрократии, централизованным налогам, постоянным армиям и флотам; интеллектуально — распространение идей рационального управления и «общего блага» (просвещённый абсолютизм, камерализм, физиократия, классическая политэкономия). Экономически — рост товарности сельского хозяйства и продуктивности (агротехнические новшества, более крупные хозяйства), расширение внутреннего рынка и внешней торговли, финансовая глубина и способность государств жить «в кредит», ранняя механизация и фабрикация, впервые изменившая темпы роста в Британии и постепенно задавшая модель для континента. При этом различия принципиальны: там, где существуют парламентские ограничения и развитые финансовые рынки (Британия, частично Нидерланды), реформы шли через согласование интересов и долговые институты; там, где доминировало крепостничество или сословные привилегии (Россия, значительная часть Центральной и Восточной Европы, Франция с устойчивыми корпорациями), монархии полагались на указы и административное давление, а социальные барьеры тормозили перераспределение ресурсов и модернизацию.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИтоговый вывод таков: логика изменений во многом была общей — европейские государства стремились к большему контролю над ресурсами общества ради войны и конкуренции, что толкало их к унификации управления, налогов и права и к поддержке более производительной экономики. Но конкретные реформы и их глубина определялись внутренними институтами и социальными «узлами» каждой страны — от статуса крестьян и силы корпораций до конфигурации элит и доступа к капиталу. Векторы развития совпадали, траектории — нет; именно поэтому в конце XVIII века одна часть Европы подошла к индустриальной эре и политической модернизации с запасом институциональной прочности, а другая — с фискальными и социальными противоречиями, разрядившимися революциями.
Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал